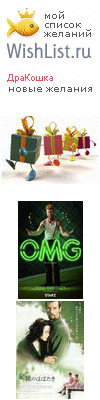Наследие мое будто нарисовано на обороте картонки от конфет художником трёх лет. С любовью, но без толики умения. Вот крыльцо накренилось. Каждое окошко своей формы. Кухня желто зеленым параллелепипедом завалилась ниже дома. Балкон норовит сползти по крыше прямо на утонувшую в траве кирпичную дорожку.
Внутри пахнет прелым деревом и плесенью. Я ступаю осторожно, нащупывая провалы досок под холодным лейнолиумом. Касаюсь шероховатых обоев. В детстве они казались мне волшебными. Если послюнить пальцем белый листочек, он растворяется в зелёном фоне, а потом медленно проступает обратно. Вечный лес моего детства.
Стою перед стареющим зеркалом над пузатым холодильником. Если зажмурюсь, смогу увидеть её отражение. Пожилое лицо с неровным загаром. Скуластое. С глубоко посаженными глазами. Тонкие выщипанные брови. Небрежно закрашенные рыжим кудряшки, уложенные волной. Она вытягивает шею вперёд и проводит по губам спичкой с туго накрученной ватой. Рисует два треугольника и полукруг – так было модно, когда она была молода. Так на черно-белых фотографиях, висящих в гостиной, где она прекрасна словно актриса немого кино. Губная помада пахнет прогорклым маслом, но она выбирает вишневый до самого дна.
Проморгаюсь и образ исчезнет. Слева от зеркала на ржавых кнопках держится старая газета. Новогодний календарь 1999 года. Ёлка и большой театр когда-то были нарочито цветными. Сейчас выгорели почти до винтажной сепии. “1999” неровно написано на листочке в кухне – последний баллон купленный для плиты. “1999” – цифры в турнирной таблице, свёрнутой гармошкой в пластмассовой коробке с домино.
Кажется, что на 23 года время тут остановилось. Но это не так. 23 года дом ветшал. Гнила наживо дедова мастерская, та самая, в которой над верстаком на тонкой бечевке висит куриный бог – предмет моей детской зависти двоюродному брату. Дожди смывали наносной слой плодородной почвы, оставляя дом на глиняном пригорке. Яблони покрывались лишайником, но упорно продолжали плодоносить, ломаясь под тяжестью жизни. Не в один год все это случилось.
Любимая антоновка теперь в опасной близости к покосившимся окошкам. Ствол ее облепили зеленые водоросли, серо-синие гипогимнии, белесые плесени. Как костыли ветерана войны в пятнистом камуфляже, ее подпирают рассыхающиеся деревянные столбы. И всё равно ее разорвало почти что пополам. Одним стволом пытается облокотиться на крышу. Другим – всё ещё тянется к небу. Кое-где кора в глубоких морщинах зачищена до свежей кожицы. Там гладкое глянцевое зеленоватое тепло. И писк. Пронзительный, отчаянный, на грани слышимости. Стою, почти не дыша, не двигаюсь. Пять, десять, двадцать минут и можно подглядеть, как птичка шустро промелькнет между листьев. Сама не больше яблоневого листа. Клюв размером с семечку, зато в нем – огромный жук. Тогда звуки станут громче, наполняя старое дерево царапанием коготков и шуршанием перьев. Она сделает несколько точных инъекций в глубокую щель между стволов. И немедленно упорхнет куда-то в лес. Тогда писк затихнет. Но только на время.
Imagery of DraCat